Контакты России
со странами Азии и Африки в сфере образования
и науки
со странами Азии и Африки в сфере образования
и науки
Культурная дипломатия — это область, которая помогает создать дружественную атмосферу в отношениях между разными странами путем обмена ценностями, идеями и информацией. Образование играет ключевую роль в культурной дипломатии, так как оно способствует укреплению взаимопонимания и доверия между народами. Оно также помогает строить фундамент отношений между государствами, воспитывая поколение молодежи, знакомой с другой культурой и свободной от стереотипов.
Образовательная дипломатия включает в себя обмен студентами и преподавателями, организацию совместных исследовательских проектов, проведение конференций и семинаров. Эти мероприятия способствуют развитию международного сотрудничества в области науки, культуры и образования. Страны, активно участвующие в образовательных программах, могут также привлекать талантливых специалистов из других регионов, повышать свой научный потенциал и создавать новые рабочие места.
Россия, имеющая большой опыт в образовательной и научной сферах, может стать важным партнером для других государств благодаря своей развитой системе высшего образования, ведущим научным центрам и высококвалифицированным специалистам.
В этом лонгриде три эксперта по отношениям России со странами Азии и Африки поделятся опытом работы в этой сфере и расскажут об особенностях построения образовательных контактов.
Образовательная дипломатия включает в себя обмен студентами и преподавателями, организацию совместных исследовательских проектов, проведение конференций и семинаров. Эти мероприятия способствуют развитию международного сотрудничества в области науки, культуры и образования. Страны, активно участвующие в образовательных программах, могут также привлекать талантливых специалистов из других регионов, повышать свой научный потенциал и создавать новые рабочие места.
Россия, имеющая большой опыт в образовательной и научной сферах, может стать важным партнером для других государств благодаря своей развитой системе высшего образования, ведущим научным центрам и высококвалифицированным специалистам.
В этом лонгриде три эксперта по отношениям России со странами Азии и Африки поделятся опытом работы в этой сфере и расскажут об особенностях построения образовательных контактов.
Мир-Али Аскеров
Преподаватель и исследователь Высшей Школы Экономики, Институт востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
Аспирант департамента политологии и международных отношений, младший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков.
Аспирант департамента политологии и международных отношений, младший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков.
«Ко многим международным акторам приходит понимание того, что гораздо более эффективно продвигать свою повестку не путем создания военных баз или участия в каких-то военных конфликтах, но прежде всего путем своего присутствия в стране за счет гуманитарных и образовательных проектов»
— В чем, по вашему мнению, заключается роль культурной дипломатии в современном мире? Каких целей можно достичь благодаря «мягкой силе» культуры?
— Мне нравится сфера культурной дипломатии именно тем, что она зачастую по-настоящему взаимовыгодна. Страна, которая получает помощь, действительно является стороной бенефициаром, потому что она получает квалифицированные кадры, людей, которые знают как минимум какой-либо новый иностранный язык.
Русский язык — это язык, на котором создаётся достаточно много материалов науки и культуры. Кроме того, это язык, который важен не только для России, но и для всего постсоветского региона. Владение этим языком открывает очень много возможностей, особенно для людей из развивающихся стран. Изучая язык, знакомясь с культурой страны, люди лучшее её узнают, и если мы говорим о России, то узнают о и многообразии её культур. В дальнейшем это может играть роль (зачастую и играет): добившись определенного успеха в своей родной стране, люди, глубоко знающие особенности какой-либо культуры, неминуемо становятся в чём-то проводниками этой самой культуры и языка. В свою очередь это может также нести за собой, скажем так, если не лояльность, не симпатию, то какую-либо выгоду в том числе и на политическом уровне.
Русский язык — это язык, на котором создаётся достаточно много материалов науки и культуры. Кроме того, это язык, который важен не только для России, но и для всего постсоветского региона. Владение этим языком открывает очень много возможностей, особенно для людей из развивающихся стран. Изучая язык, знакомясь с культурой страны, люди лучшее её узнают, и если мы говорим о России, то узнают о и многообразии её культур. В дальнейшем это может играть роль (зачастую и играет): добившись определенного успеха в своей родной стране, люди, глубоко знающие особенности какой-либо культуры, неминуемо становятся в чём-то проводниками этой самой культуры и языка. В свою очередь это может также нести за собой, скажем так, если не лояльность, не симпатию, то какую-либо выгоду в том числе и на политическом уровне.
— Вы специализируетесь на странах исламского и арабского мира, в частности. Какие страны этого региона особенно активны в сфере культурной дипломатии?
— Для этого региона можно выделить такие страны как Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия. Арабские Эмираты и Саудовская Аравия спонсируют очень много проектов по изучению арабского языка. ОАЭ много вкладывается в целом в улучшение имиджа страны, например, проводят культурные мероприятия, на которых рассказывается о своей стране. Саудовская Аравия предоставляет очень много квот на обучение религиозным наукам, что актуально для стран мусульманского мира. Если говорить про Турцию, то это страна, у которой во многом очень большие успехи в мягкой силе: это и большое количество квот на обучение, и кинематограф – турецкие сериалы также сильно влияют на то, какой имидж страны складывается в тех странах, где эти сериалы смотрят и любят.
— Какие достижения вы хотели бы отметить в вашей карьере в сфере культурной дипломатии? Какие проекты или мероприятия вы считаете наиболее значимыми?
Если говорить про достижения, то это работа в Сомали в 2023 году. В дальнейшем удалось привезти делегацию из Сомали на саммит «Россия — Африка», который проходил этим летом в Санкт-Петербурге. Кроме того, удалось договориться с сомалийцами – выпускниками российских и советских ВУЗов о создании частной некоммерческой организации «Пушкин Центр», в котором занимаются преподаванием русского языка и русской культуры. Преподают сами сомалийцы, которые хорошо владеют русским языком и способны обучить ему следующее поколению сомалийцев, которые в российских и советских ВУЗах не учились, но у которых есть интерес к русской культуре и языку.
Пока сложно говорить об успешности и оценить эффективность работы Центра, т.к. Центр начал свою работу не так давно, с января 2024 года. Однозначно можно сказать, что курсы пользуются успехом. Другое дело, что важна определённая связка, чтобы студенты, которые идут туда учить русский язык, понимали, где им дальше этот язык можно применить.
Пока что взаимосвязь между Сомали и Россией на уровне межвузовского сотрудничества достаточно низкая. Хотя недавно СПБГУ, например, подписал с сомалийскими вузами ряд соглашений, что, возможно, увеличит присутствие России в научно-гуманитарной сфере этой страны. Возможно, как раз таки с Пушкин-Центром будет сотрудничество, но это больше про планы на будущее.
Пока сложно говорить об успешности и оценить эффективность работы Центра, т.к. Центр начал свою работу не так давно, с января 2024 года. Однозначно можно сказать, что курсы пользуются успехом. Другое дело, что важна определённая связка, чтобы студенты, которые идут туда учить русский язык, понимали, где им дальше этот язык можно применить.
Пока что взаимосвязь между Сомали и Россией на уровне межвузовского сотрудничества достаточно низкая. Хотя недавно СПБГУ, например, подписал с сомалийскими вузами ряд соглашений, что, возможно, увеличит присутствие России в научно-гуманитарной сфере этой страны. Возможно, как раз таки с Пушкин-Центром будет сотрудничество, но это больше про планы на будущее.
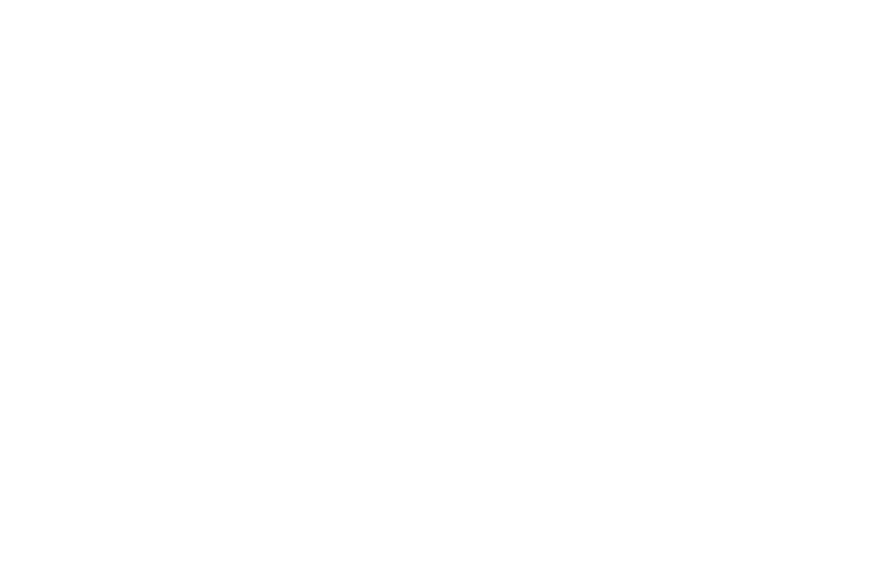
Экспертный круглый стол «Альянс государств Сахеля как новый элемент региональной безопасности: вызовы и возможности для России»
— Как исследователь, Вы принимаете участие в международных конференциях. По Вашему мнению, как подобные мероприятия помогают в налаживании контакта между странами и культурами?
Участие в международных конференциях — это очень хороший шанс, чтобы, во-первых, «сверить часы» с коллегами, которые работают над схожими темами в других странах, особенно в странах региона, изучением которого я занимаюсь. Особенно ценно бывает пообщаться с коллегами из этого же региона, потому что видение ситуации на месте часто отличается от того видения, которые ты можешь формировать извне. Так же и наоборот — когда ты находишься непосредственно вблизи, какие-то вещи тебе видятся не так отчетливо. Поэтому в этом смысле и ты можешь что-то коллегам интересное показать, рассказать.
Насколько это сотрудничество помогает продвижению имиджа страны сложно сказать, но в любом случае для жителей региона сам факт того, что их регион изучается, их регионом интересуются, оказывает достаточно благоприятный эффект. Мне кажется, это может служить хотя бы на каком-то индивидуальном уровне: человек понимает, что нами интересуются в России, и ему это приятно. Это в свою очередь формирует какое-то более позитивное отношение к России, когда люди знают, что там есть такой интерес. Конечно же, если ты показываешь компетентный интерес, смог заинтересовать своими находками, тезисами, исследованиями.
Участие в международных конференциях — это очень хороший шанс, чтобы, во-первых, «сверить часы» с коллегами, которые работают над схожими темами в других странах, особенно в странах региона, изучением которого я занимаюсь. Особенно ценно бывает пообщаться с коллегами из этого же региона, потому что видение ситуации на месте часто отличается от того видения, которые ты можешь формировать извне. Так же и наоборот — когда ты находишься непосредственно вблизи, какие-то вещи тебе видятся не так отчетливо. Поэтому в этом смысле и ты можешь что-то коллегам интересное показать, рассказать.
Насколько это сотрудничество помогает продвижению имиджа страны сложно сказать, но в любом случае для жителей региона сам факт того, что их регион изучается, их регионом интересуются, оказывает достаточно благоприятный эффект. Мне кажется, это может служить хотя бы на каком-то индивидуальном уровне: человек понимает, что нами интересуются в России, и ему это приятно. Это в свою очередь формирует какое-то более позитивное отношение к России, когда люди знают, что там есть такой интерес. Конечно же, если ты показываешь компетентный интерес, смог заинтересовать своими находками, тезисами, исследованиями.
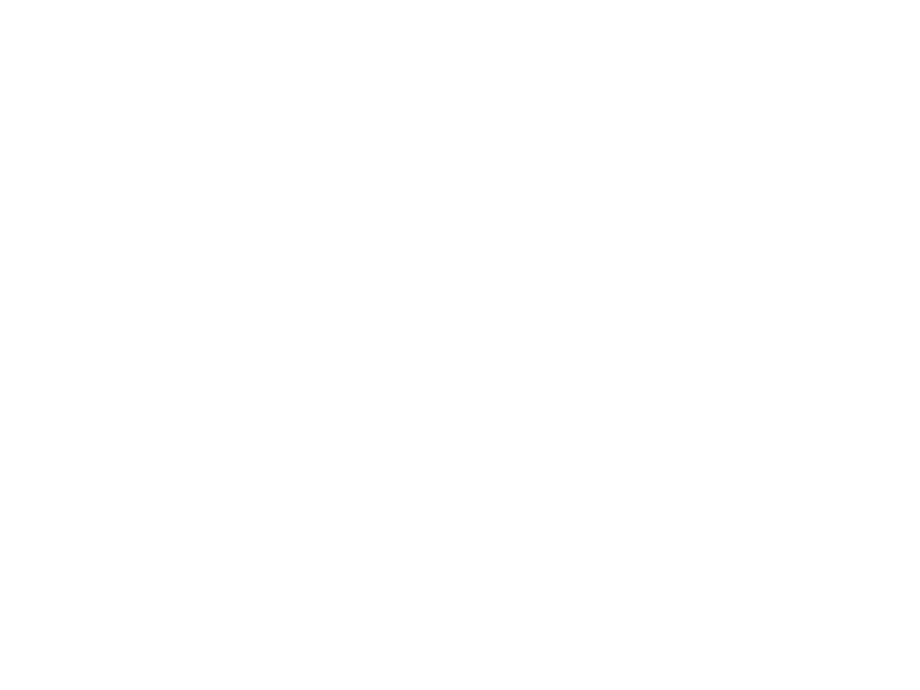
Конференция в Танзании 2024. Фото: Леонид Исаев
— Какую роль играет интернационализация высшего образования в современной глобальной среде?
Здесь, как и у всего, есть свои плюсы и минусы. Если говорить про плюсы, то повышается зачастую доступность, облегчаются моменты, связанные с межвузовским взаимодействием, появляются возможности для беспроблемной кооперации, потому что вы работаете и взаимодействуете в рамках одной платформы.
С другой стороны, конечно, мы понимаем, что универсализация и глобализация образования проходят прежде всего под эгидой развитых стран, которые могут задавать определенную повестку в сфере образования, и зачастую эта повестка достаточно эксклюзивна к развивающимся странам, из-за чего их интересы не очень учитываются. Кроме того, это часто влияет на «утечку мозгов». Люди, попадая в это универсализированное, глобализированное образовательное пространство, получая хорошее образование, затем заинтересованы в продолжении своей карьерной траектории уже в развитых странах, где они могут получать большие деньги за аналогичную работу, чем в своей собственной стране. И это часто ведёт к тому, что наиболее ценные специалисты приглашаются на работы в ВУЗы других стран, то же самое со студентами. Затем эти люди не возвращаются к себе, и из-за этого страна лишается достаточно ценных кадров, в которых она нуждается.
Здесь, как и у всего, есть свои плюсы и минусы. Если говорить про плюсы, то повышается зачастую доступность, облегчаются моменты, связанные с межвузовским взаимодействием, появляются возможности для беспроблемной кооперации, потому что вы работаете и взаимодействуете в рамках одной платформы.
С другой стороны, конечно, мы понимаем, что универсализация и глобализация образования проходят прежде всего под эгидой развитых стран, которые могут задавать определенную повестку в сфере образования, и зачастую эта повестка достаточно эксклюзивна к развивающимся странам, из-за чего их интересы не очень учитываются. Кроме того, это часто влияет на «утечку мозгов». Люди, попадая в это универсализированное, глобализированное образовательное пространство, получая хорошее образование, затем заинтересованы в продолжении своей карьерной траектории уже в развитых странах, где они могут получать большие деньги за аналогичную работу, чем в своей собственной стране. И это часто ведёт к тому, что наиболее ценные специалисты приглашаются на работы в ВУЗы других стран, то же самое со студентами. Затем эти люди не возвращаются к себе, и из-за этого страна лишается достаточно ценных кадров, в которых она нуждается.
— Какие международные проекты/инициативы в области культурной дипломатии вы считаете наиболее интересными или значимыми?
На ум сразу приходит опыт СССР. Это очень хорошо чувствуется, когда ты ездишь по странам региона и везде находишь выпускников советских ВУЗов. Кроме того, у выпускников обычно гораздо более теплые чувства, более сильная связка остается со страной, где они проходили обучение. Эти люди отдают свои ресурсы, как финансовые, так временные, на то, чтобы организовывать культурные центры и в дальнейшем передавать опыт молодым поколениям. Каждый раз, когда ты видишь этих людей, их количество, а оно немаленькое, и слушаешь их истории, ты понимаешь, насколько это был масштабный, долгосрочный проект, какое видение было в то время. Люди, которые в 80–70-х учились в российских вузах, до сих пор работают на этом поприще. Повторюсь, это абсолютно неоплачиваемый труд. В этом плане СССР может быть одним из успешных примеров в мировой истории.
Если говорить в целом про культурную дипломатию, то есть элементы, к примеру, у современного Китая. Известная панда-дипломатия, когда Китай отправляет в зоопарки дружественных стран своих панд. Также это открытие Институтов Конфуция по изучению китайского языка. Ну и, конечно, можно вспомнить Россию с «Русскими домами». Это тоже достаточно мощный глобальный проект, который зачастую начинается с частных инициатив и затем уже получает поддержку со стороны государства.
Если говорить в целом про культурную дипломатию, то есть элементы, к примеру, у современного Китая. Известная панда-дипломатия, когда Китай отправляет в зоопарки дружественных стран своих панд. Также это открытие Институтов Конфуция по изучению китайского языка. Ну и, конечно, можно вспомнить Россию с «Русскими домами». Это тоже достаточно мощный глобальный проект, который зачастую начинается с частных инициатив и затем уже получает поддержку со стороны государства.
На мой взгляд, всегда нужно ориентироваться на долгосрочные результаты. Не стоит ожидать в краткой и среднесрочной перспективе чего-то, что должно ярко показать, что все коренным образом изменилось. В долгосрочной перспективе, возможно, как и случае СССР, будем видеть определенные успехи в этой сфере.
— Какие перспективы развития культурной дипломатии вы видите в будущем?
Я думаю, что перспективы достаточно большие, потому что мы видим за последние годы, что у многих стран присутствует тренд прежде всего на мягкую силу. Ко многим международным акторам приходит понимание того, что гораздо более эффективно продвигать свою повестку не путем создания военных баз или участия в каких-то военных конфликтах, но прежде всего путем своего присутствия в стране за счет гуманитарных и образовательных проектов. Мне кажется, что этот тренд будет сохраняться и продолжать своё развитие, и в каком-то смысле за этим будущее. Это не значит, что полностью все отойдут от грубой силы, но мне кажется, что мягкая сила все больше и больше будет присутствовать наряду с грубой.
Роман Файншмидт
Преподаватель и исследователь политических и экономических процессов Восточной и Юго-восточной Азии, сотрудничает с Московской высшей школой социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка)
«Нужно будет бороться за продвижение конкретного образа, что мы есть такое, чего хотим как можем быть друг другу полезными, попытаться обойти эти стереотипы»
— Расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы? Чем занимаетесь? Какие у вас есть проекты?
Я являюсь преподавателем и исследователем политических и экономических процессов восточной и юго-восточной Азии, почти 3 года я живу и работаю в регионе: в Индонезии, Таиланде, а сейчас живу во Вьетнаме. В России я сотрудничаю на постоянной основе с Московской высшей школой социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка), а в рамках краткосрочных проектов в Таиланде — с университетом Тамассат, в Индонезии — Президентский университет.
— В каких образовательных международных проектах вы принимали участие?
Проект с Тамассатским университетом был связан непосредственно с популярностью изучения русского языка в Таиланде и возможностями России поддержать интерес к изучению русского языка. В рамках этого университета я проводил мастер-классы и готовил для них курсы. В Индонезии у нас был проект по информационному потенциалу России и стран Запада в текущих условиях, и плюс ко всему там я ещё очень активно проводил занятия по анализу внешней политики, по теме международных отношений, конечно.
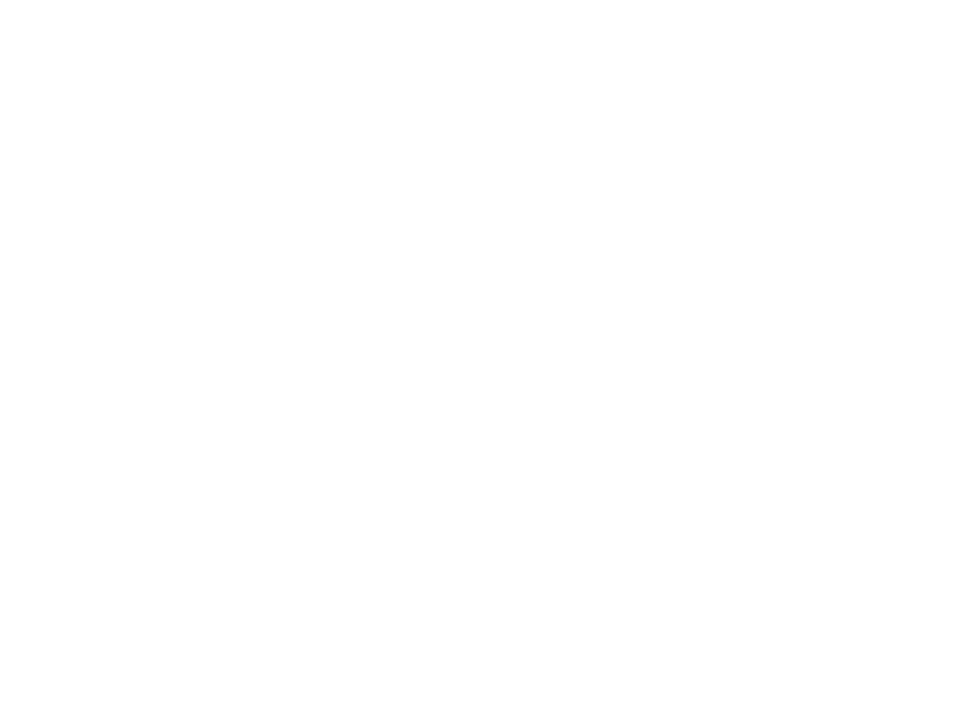
— А как Вы видите развитие культурной дипломатии со стороны России?
В культурном плане Россия, конечно, интересна для многих стран Азии, особенно уже с которыми когда-то развивались отношения на культурном фоне. Ясно это проявляется в случае с Китаем, также в случае с Вьетнамом. Некоторые современные российские культурные продукты, например, «Маша и Медведь» безумно популярны в Индонезии, в магазинах можно видеть игрушки Маши. Надо отметить, что отдельные атрибуты российской культуры действительно выстреливают: это некоторая мультипликационная продукция, русский балет, русская литература (Ф.М. Достоевский). Другое дело, если мы говорим о комплексе. Говоря о Корее, мы видим влияние гастродипломатии, в некоторой степени продуктов для детей, кинематографа (очень обсуждаем в Азии). Плюс ко всему подкрепление образа страны, желание этой страны приглашать людей к себе (туристская дестинация). В случае России я скажу прямо. Безусловно, культурное влияние есть, оно приятно радует, но проблема в том, что эти усилия не комплексные. И если корейская культура вездесущая, в любом случае человек с ней как-то встретится, будет касаться, то вот с русской культурой соприкосновений будет очень и очень ограничено.
У России в принципе не такое сильное влияние на мировом фоне в целом, и если выстраивать какую-то стратегию, то она должна быть четко проработана. Какие культурные продукты она будет продвигать, какую тактику использовать, с кем сопоставлять свою культуру. Серьёзная проблема при ограниченных ресурсах — нет проработанной стратегии продвижения культурной дипломатии России. Есть отдельные аспекты, мощные образовательные программы, но, к сожалению, ввиду отсутствия подобной стратегии, не всегда об этом получается говорить громко. А Корея — это небольшое государство с меньше, чем 50 млн. человек, но при этом во многом благодаря усилию государства и тщательной стратегии этой стране удалось выстрелить в культурной привлекательности. И это соприкосновение с корейской культурой многогранно, есть возможность прочувствовать, близко познакомиться с культурой и даже, может, почувствовать ее динамику. С российской культурой это пока не очень получается. Плюс пока не совсем понятна логистика РФ – культурных продуктов, как их продвигать, учитывая ещё и текущие проблемы.
В культурном плане Россия, конечно, интересна для многих стран Азии, особенно уже с которыми когда-то развивались отношения на культурном фоне. Ясно это проявляется в случае с Китаем, также в случае с Вьетнамом. Некоторые современные российские культурные продукты, например, «Маша и Медведь» безумно популярны в Индонезии, в магазинах можно видеть игрушки Маши. Надо отметить, что отдельные атрибуты российской культуры действительно выстреливают: это некоторая мультипликационная продукция, русский балет, русская литература (Ф.М. Достоевский). Другое дело, если мы говорим о комплексе. Говоря о Корее, мы видим влияние гастродипломатии, в некоторой степени продуктов для детей, кинематографа (очень обсуждаем в Азии). Плюс ко всему подкрепление образа страны, желание этой страны приглашать людей к себе (туристская дестинация). В случае России я скажу прямо. Безусловно, культурное влияние есть, оно приятно радует, но проблема в том, что эти усилия не комплексные. И если корейская культура вездесущая, в любом случае человек с ней как-то встретится, будет касаться, то вот с русской культурой соприкосновений будет очень и очень ограничено.
У России в принципе не такое сильное влияние на мировом фоне в целом, и если выстраивать какую-то стратегию, то она должна быть четко проработана. Какие культурные продукты она будет продвигать, какую тактику использовать, с кем сопоставлять свою культуру. Серьёзная проблема при ограниченных ресурсах — нет проработанной стратегии продвижения культурной дипломатии России. Есть отдельные аспекты, мощные образовательные программы, но, к сожалению, ввиду отсутствия подобной стратегии, не всегда об этом получается говорить громко. А Корея — это небольшое государство с меньше, чем 50 млн. человек, но при этом во многом благодаря усилию государства и тщательной стратегии этой стране удалось выстрелить в культурной привлекательности. И это соприкосновение с корейской культурой многогранно, есть возможность прочувствовать, близко познакомиться с культурой и даже, может, почувствовать ее динамику. С российской культурой это пока не очень получается. Плюс пока не совсем понятна логистика РФ – культурных продуктов, как их продвигать, учитывая ещё и текущие проблемы.
— С какими трудностям в работе Вы сталкивались?
Наверное, самый сложный вопрос — это было понять, что у нас за культурные различия, как их следует воспринимать, как нам следует адаптироваться. И вопрос, какие паттерны поведения я должен выстраивать, учитывая эти различия. К сожалению, эти различия крайне существенны, и к ним можно только привыкнуть. Воспринимать их как данное и максимально учиться тому, чтобы это различия не привели к возникновению конфликта.
Например, в Индонезии совершенно иное отношение к умершим людям. Я видел, как мои коллеги по работе фотографируются с телом умершего родственника. Для нас — это кощунство, а дня индонезийцев - это норма. Интерес к личной жизни: в России считается не очень хорошим интересоваться личной жизнью человека, с которым ты просто работаешь (только если поддержать разговор), а в Индонезии личная жизнь человека — публична. Всё что ты скажешь кому-то в коллективе, через несколько часов будет известно всем, в том числе и начальнику.
Например, в Индонезии совершенно иное отношение к умершим людям. Я видел, как мои коллеги по работе фотографируются с телом умершего родственника. Для нас — это кощунство, а дня индонезийцев - это норма. Интерес к личной жизни: в России считается не очень хорошим интересоваться личной жизнью человека, с которым ты просто работаешь (только если поддержать разговор), а в Индонезии личная жизнь человека — публична. Всё что ты скажешь кому-то в коллективе, через несколько часов будет известно всем, в том числе и начальнику.
— Как культурные различия сказываются на рабочем процессе?
К сожалению, азиатские культуры достаточно диффузные, то есть предусматривают смешение частной жизни и публично. Начальник или коллектив могут в некоторой степени быть заинтересованы, что у тебя происходит в частной сфере. У индонезийцев это выражено очень сильно, крайне сильно. Во-первых, это очень экстравертная культура, во-вторых, они реально стремятся узнать, что и как происходит у других людей. И для нас, россиян, это очень неожиданно. Я уж молчу про некоторые аспекты коллективизма, когда начальник организует совместные обеды, и ты не можешь пропустить этот обед, или эту встречу, потому что это начальник. Это есть и в японской культуре, хотя потихонечку уже меняется. В индонезийской культуре это пока не планирует изменяться. Это те различия, которые я увидел, когда начал непосредственно работать в индонезийском университете. Я ожидал, что так будет, но одно дело, когда ты читаешь об этом, но, когда сталкиваешься с этим лично, это уже совершенно другой опыт, здесь ты вынужден прямо здесь и сейчас продумывать сценарий, как ты должен себя вести, отвечать. Конечно, иностранцу может быть немного проще, поскольку он иностранец и у него свои правила. В Азии с этим «окей», ты здесь гость, ты можешь вести себя по-другому, но с течением времени индонезийцы начинают воспринимать тебя как своего или как человека, который близок своим, и ожидают от тебя поведения, которое будет близко их культуре. Да, адаптироваться важно, но вопрос как. Еще свою идентичность терять не хочется.
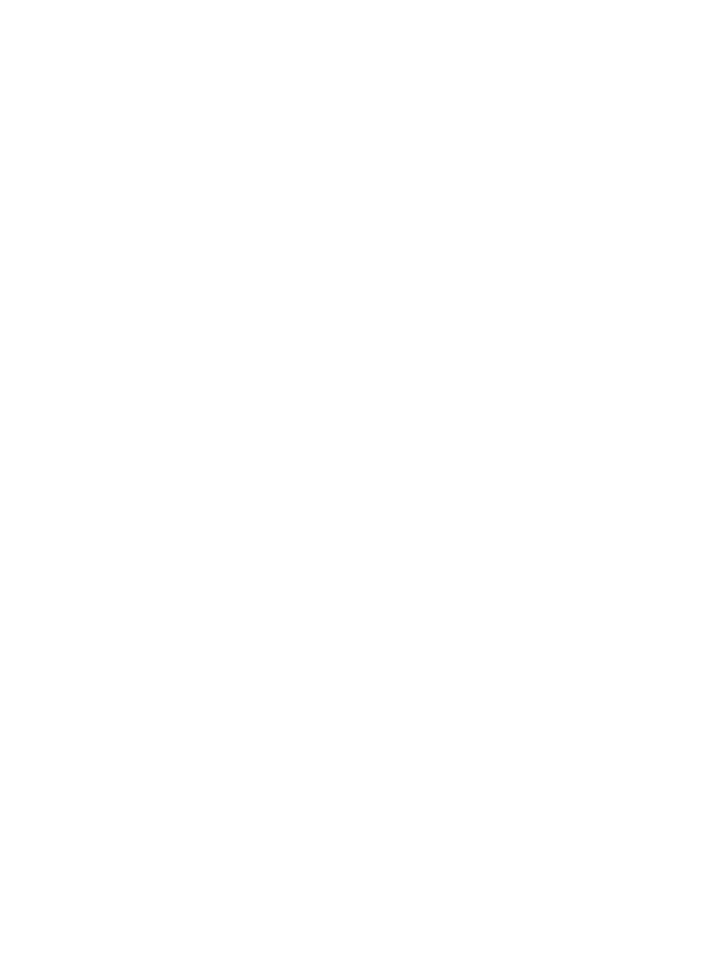
— Какие достижения вы хотели бы отметить в вашей карьере в этой сфере?
Больше могу выделить индонезийский опыт. Наверное, мне удалось продвинуть привлекательный образ России. Во-первых, я был все-таки первым российским лектором в рамках университета, и у студентов появилась персональная возможность познакомиться с представителем нашей культуры. Может моя персоналия не самая репрезентативная, но, в любом случае, возможность познакомить и рассказать про русскую историю, гастрономические предпочтения, про то, что из себя вообще представляет Россия. Действительно, есть представление, что это какая-то заснеженная страна, очень холодно, и не совсем понятно, что там происходит внутри. Рассказывая про работу сервиса, организации, бюрократию, люди понимают, что Россия очень продвинутая страна в плане технологий, систем. В Индонезии удивляются тем, что, оказывается, в таком будущем уже живет Россия. Этим можно гордиться, продвигать это, но пока выхлоп от этого достаточно ограничен, в Индонезии мне приходилось рассказывать об этом лично и даже показывать.
Больше могу выделить индонезийский опыт. Наверное, мне удалось продвинуть привлекательный образ России. Во-первых, я был все-таки первым российским лектором в рамках университета, и у студентов появилась персональная возможность познакомиться с представителем нашей культуры. Может моя персоналия не самая репрезентативная, но, в любом случае, возможность познакомить и рассказать про русскую историю, гастрономические предпочтения, про то, что из себя вообще представляет Россия. Действительно, есть представление, что это какая-то заснеженная страна, очень холодно, и не совсем понятно, что там происходит внутри. Рассказывая про работу сервиса, организации, бюрократию, люди понимают, что Россия очень продвинутая страна в плане технологий, систем. В Индонезии удивляются тем, что, оказывается, в таком будущем уже живет Россия. Этим можно гордиться, продвигать это, но пока выхлоп от этого достаточно ограничен, в Индонезии мне приходилось рассказывать об этом лично и даже показывать.
— Как вы определяете свою роль в налаживании международных отношений?
— Регион Восточной и Юго-Восточной Азии крайне небеспроблемный. В принципе, почему-то поворот России на Восток стал поворотом в сторону исключительно Китая. А это не есть хорошо, поскольку Азия намного обширнее. Здесь есть многообразие культур, которое Европе невозможно представить. Прямо скажу, культура Индонезии — культура с очень мощным исламским компонентом, Таиланд — это буддийская культура, причем очень открытая современным трендам и многим прорывным и противоречивым. Соседний Вьетнам — это конфуцианская культура, в некоторой степени более близкая к Китаю, очень сильно отличающаяся от Таиланда и имеющая свои собственные особенности, которые необходимо изучать и понимать. Здесь реально чувствуется очень мощное разнообразие культур. Даже внутри одной страны, в Индонезии есть умеренно-исламизированные яванцы, есть сильно-исламизированные ачехцы, есть балийцы, исповедующие индуизм. Россия, учитывая поворот на восток должна осознавать, что здесь культуры абсолютно разные.
И я свою миссию здесь вижу в том, что я помогаю понять эту разницу, понять, что здесь Россия должна вести сбалансированную внешнюю политику в этом регионе, учитывая крайне непростые противоречия. Опять-таки, политические проблемы Вьетнама и Китая, которые могут в один момент просто перейти в Третью мировую войну (территориальный спор касательно Парасельских островов, островов Спратли, и это очень важный логистический маршрут, который в один, не самый прекрасный день может стать очень серьезным противоречием и даже привести к войне между Китаем и Вьетнамом и даже с более широким вовлечением игроков).
Сейчас у России очень сложные отношения с Кореей, учитывая, что Южная Корея в стратегическом смысле больше тяготеет к США, вообще это союзник США. И на данный момент полностью принимает сторону Запада, что уже негативно отразилось на состоянии отношений между Россией и Южной Кореей. Но не следует забывать, что есть такие активисты, политологи, которые заявляют, что необходимо отношения с этим государством разорвать и поддерживать КНДР, но, учитывая тот вес, которая имеет Южная Корея и ее культурное влияние, может быть, эта политика очень прямолинейна и опасна для интересов России в будущем. Может быть, имеет смысл всё-таки сохранить отношения со многими игроками, с той же Южной Кореей, с той же Японией. Опять же, учитывая, что есть санкционный режим, есть очень серьёзные ограничения. Я очень надеюсь, что Россия в текущих условиях не пойдет на абсолютную конфронтацию с теми странами, которые имеют определенные разногласия с Россией, а будет стремиться на них повлиять через необычные, нетрадиционные рычаги (культурная дипломатия). Необходима проработка стратегии продвижения культуры, потому что русская культура, будем откровенны, привлекательна, но проблема в том, что нет стратегии, не умеем себя позиционировать и рекламировать и в итоге о нас знают очень немного. Есть определенные стереотипы, но медведь, балалайка и водка — это еще не самые худшие стереотипы. К сожалению, учитывая влияние западных медиа, стереотипы еще более пугающие. Значит нужно рассматривать вопрос о продвижении какого-то образа.
И я свою миссию здесь вижу в том, что я помогаю понять эту разницу, понять, что здесь Россия должна вести сбалансированную внешнюю политику в этом регионе, учитывая крайне непростые противоречия. Опять-таки, политические проблемы Вьетнама и Китая, которые могут в один момент просто перейти в Третью мировую войну (территориальный спор касательно Парасельских островов, островов Спратли, и это очень важный логистический маршрут, который в один, не самый прекрасный день может стать очень серьезным противоречием и даже привести к войне между Китаем и Вьетнамом и даже с более широким вовлечением игроков).
Сейчас у России очень сложные отношения с Кореей, учитывая, что Южная Корея в стратегическом смысле больше тяготеет к США, вообще это союзник США. И на данный момент полностью принимает сторону Запада, что уже негативно отразилось на состоянии отношений между Россией и Южной Кореей. Но не следует забывать, что есть такие активисты, политологи, которые заявляют, что необходимо отношения с этим государством разорвать и поддерживать КНДР, но, учитывая тот вес, которая имеет Южная Корея и ее культурное влияние, может быть, эта политика очень прямолинейна и опасна для интересов России в будущем. Может быть, имеет смысл всё-таки сохранить отношения со многими игроками, с той же Южной Кореей, с той же Японией. Опять же, учитывая, что есть санкционный режим, есть очень серьёзные ограничения. Я очень надеюсь, что Россия в текущих условиях не пойдет на абсолютную конфронтацию с теми странами, которые имеют определенные разногласия с Россией, а будет стремиться на них повлиять через необычные, нетрадиционные рычаги (культурная дипломатия). Необходима проработка стратегии продвижения культуры, потому что русская культура, будем откровенны, привлекательна, но проблема в том, что нет стратегии, не умеем себя позиционировать и рекламировать и в итоге о нас знают очень немного. Есть определенные стереотипы, но медведь, балалайка и водка — это еще не самые худшие стереотипы. К сожалению, учитывая влияние западных медиа, стереотипы еще более пугающие. Значит нужно рассматривать вопрос о продвижении какого-то образа.
— Какие вызовы вы видите впереди и как планируете их преодолеть?
— Яркий вызов для меня — сохраняющееся незнание о том, что происходит в России, учитывая, что СМИ очень сильно контролируются странами Запада, которые дают поверхностное смотрение России (не говоря о внешней политике, а говоря о людях, культуре). Нужно будет бороться за продвижение конкретного образа, что мы есть такое, чего хотим как можем быть друг другу полезными, попытаться обойти эти стереотипы. Продвигать какой-то позитивный образ необходимо, даже учитывая, что как таковой русофобии в Азиатском регионе не чувствуется. Второй вызов немного более сложный, касаемый России в целом — попытаться привлечь к русской культуре, чтоб о ней говорили, в нее погружались. Знаю из собственного опыта, тайцев, индонезийцев, которые жили в России, они потом Россией живут, очень любят русскую культуру, русскую еду, скучают по России. Нередко возвращаются, чтоб найти русскую жену или получить работу по линии своих государств. Действительно, российская культура может быть интересной, но, к сожалению, это все точечно. Мне бы хотелось расширить представления, чтобы больше людей интересовалось культурой России. Язык культуры способствует тому, как человек мыслит.
Светлана Кривохиж
Заведующая кафедрой международных отношений
и политических процессов стран Азии и Африки Института востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
и политических процессов стран Азии и Африки Института востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
«У Китая есть четкая стратегия — правительство страны знает, что оно хочет получить от образовательного сотрудничества и как именно»
— Светлана Валентиновна, расскажите немного о себе. Какие у Вас основные направления академической деятельности?
— Меня зовут Светлана Кривохиж, я заведую кафедрой международных отношений и политических процессов стран Азии и Африки Института востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Я китаист-международник, занимаюсь изучением внешней политики КНР. Моя кандидатская диссертация была посвящена истории публичной дипломатии Китая, а сейчас я в основном исследую роль идей в китайской внешней политике. Мои последние статьи в соавторстве с Еленой Соболевой посвящены стратегическим нарративам КНР при Си Цзиньпине.
— Почему Вас заинтересовала сфера международных отношений? И почему именно Китай?
— Мне всегда была интересна история и обществознание, поэтому после школы я поступила на факультет международных отношений СПбГУ, на кафедру американских исследований. В качестве второго языка на кафедре предлагали в том числе китайский и я одна из немногих решила выбрать его. Это был 2004 год, тогда Китаем еще мало кто интересовался так, как сейчас. На мой интерес к Китаю сильно повлияла годовая стажировка в Тяньцзиньском университете. Во время неё я улучшила уровень владения китайским и определила для себя, какой аспект китайской внешней политики хотела бы изучать — мягкую силу и публичную дипломатию.
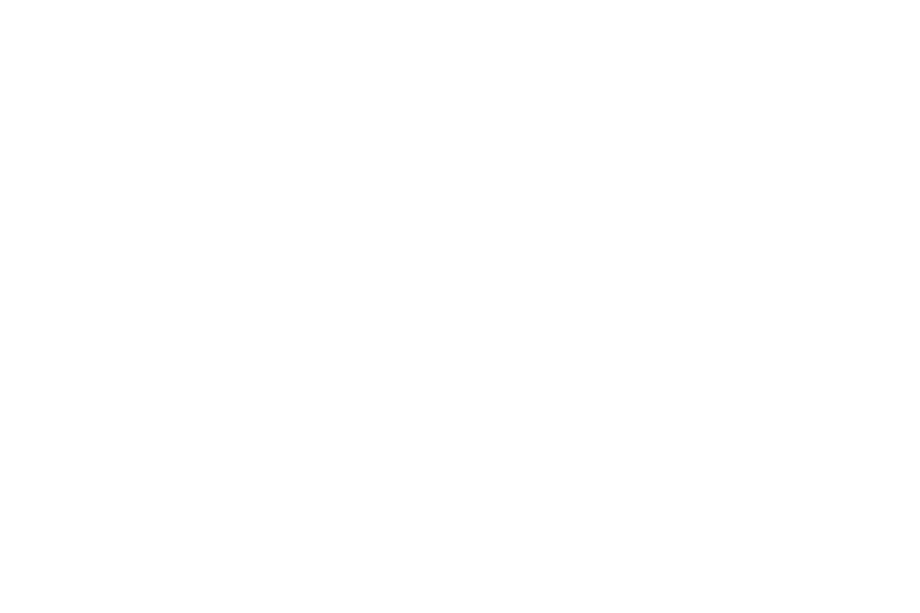
Цигун — это комплекс традиционных упражнений, возникших на основе даосской алхимии и буддийских практик, выполняемых с оздоровительными и терапевтическими целями. Он включает в себя дыхательные и двигательные упражнения, связанные с религиозными представлениями даосских монахов.
— Был ли у Вас опыт участия в сфере культурной дипломатии?
— В каком-то смысле, языковые стажировки в других странах — это тоже элемент культурной дипломатии, так как изучение языка позволяет лучше понимать культуру страны, ее традиции и ценности. Кроме этого, китайский университет, в котором я училась, проводил различные мастер-классы, которые знакомили студентов с искусством, кухней и философией Китая. Мы ходили на каллиграфию, пробовали заниматься цигун и слушали Пекинскую оперу.
— В каком-то смысле, языковые стажировки в других странах — это тоже элемент культурной дипломатии, так как изучение языка позволяет лучше понимать культуру страны, ее традиции и ценности. Кроме этого, китайский университет, в котором я училась, проводил различные мастер-классы, которые знакомили студентов с искусством, кухней и философией Китая. Мы ходили на каллиграфию, пробовали заниматься цигун и слушали Пекинскую оперу.
— Как Вы можете оценить активность Китая в сфере культурной дипломатии? Как и когда она начала развиваться? На каком этапе развития находится сейчас?
— Культура всегда играла важную роль при взаимодействии Китая с соседями. Это одна из причин почему китайские политики и исследователи с большим энтузиазмом приняли концепцию «мягкой силы» Джозефа Ная: в древности приобщение других народов к китайской цивилизации в рамках доктрины «мироустроительной монархии» и включение их в сферу своего влияния с помощью мощной культурной составляющей являлось одним из традиционных принципов во взаимоотношениях Китая с внешним миром.
Если говорить про современный Китай (КНР), то культурные обмены всегда рассматривались руководством страны как одна из базовых составляющих политики «мирного сосуществования». Изначально основной фокус был на развивающихся странах Азии и Африки, но даже на переговорах 1955–1970 годов с США китайцы настаивали, что сначала необходимо установить культурные контакты, чтобы создать атмосферу сотрудничества на переговорах, а уже потом плодотворно решать спорные вопросы. Важной вехой стало создание в 1987 году Государственной канцелярии по распространению китайского языка за рубежом, которая затем стала курировать создание Институтов Конфуция.
В целом, начиная с 2000-х культурная дипломатия стала развиваться стремительно, так как Китай стал вкладывать существенные ресурсы в продвижение китайских книг, фильмов, музыки, компьютерных игр за рубежом, популяризацию китайского традиционного и современного искусства, поддержку проведения культурных мероприятий, годов культуры и прочего.
Если говорить про современный Китай (КНР), то культурные обмены всегда рассматривались руководством страны как одна из базовых составляющих политики «мирного сосуществования». Изначально основной фокус был на развивающихся странах Азии и Африки, но даже на переговорах 1955–1970 годов с США китайцы настаивали, что сначала необходимо установить культурные контакты, чтобы создать атмосферу сотрудничества на переговорах, а уже потом плодотворно решать спорные вопросы. Важной вехой стало создание в 1987 году Государственной канцелярии по распространению китайского языка за рубежом, которая затем стала курировать создание Институтов Конфуция.
В целом, начиная с 2000-х культурная дипломатия стала развиваться стремительно, так как Китай стал вкладывать существенные ресурсы в продвижение китайских книг, фильмов, музыки, компьютерных игр за рубежом, популяризацию китайского традиционного и современного искусства, поддержку проведения культурных мероприятий, годов культуры и прочего.
— Почему страны стремятся налаживать контакты в сфере образования и науки?
— Можно выделить три основных блока. Во-первых, это проведение совместных научных исследований и взаимный обмен опытом. Всегда полезно подсмотреть, чем занимаются коллеги из других стран и как они это делают — можно перенять лучшие их практики и в то же время поделиться своими.
Во-вторых, это культурный обмен и установление дружеских связей. Контакты в сфере образования и науки помогают нам ближе познакомиться с другими культурами и тем самым разрушить стереотипы друг о друге.
И, в-третьих, это повышение престижа и создание бренда страны — успехи в науке повышают авторитет государства, привлекают студентов и исследователей со всего мира. Что в свою очередь еще больше повышает уровень науки и образования благодаря притоку талантов.
Во-вторых, это культурный обмен и установление дружеских связей. Контакты в сфере образования и науки помогают нам ближе познакомиться с другими культурами и тем самым разрушить стереотипы друг о друге.
И, в-третьих, это повышение престижа и создание бренда страны — успехи в науке повышают авторитет государства, привлекают студентов и исследователей со всего мира. Что в свою очередь еще больше повышает уровень науки и образования благодаря притоку талантов.
Бренд страны играет важную роль в формировании ее международного имиджа. Страна с сильным брендом способна привлечь больше инвесторов, туристов и высококвалифицированных работников. Это также помогает ей отстаивать свои интересы на международном уровне и усиливает ее позиции в мировой экономике.
— Развиваются ли контакты России и Китая в сфере образования и науки особенно сильно в последние годы?
— Да, за последние годы произошло много важных событий. Начиная от Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020–2021), до создания совместных университетов.
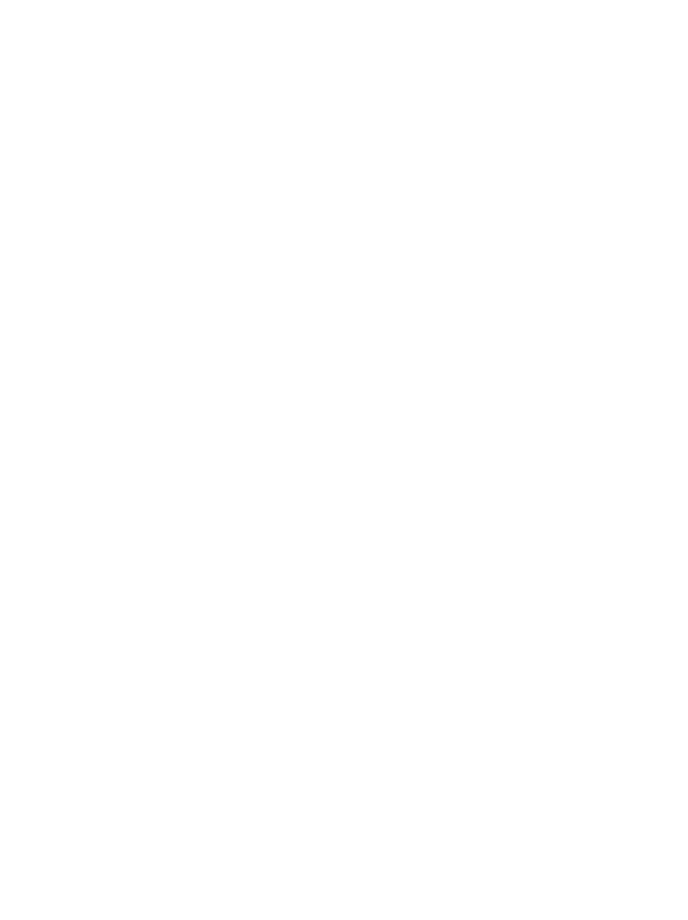
Университет МГУ–Пекинский политехнический университет в Шэньчжэне
Таковых сейчас пять, самый известный — университет МГУ–Пекинский политехнический университет в Шэньчжэне, который был учрежден в 2014 году. Кроме того, начали запускаться образовательные курсы российских университетов на китайских платформах. Например — курсы СПбГУ по русскому языку и истории России на платформе XuetangX.
Сейчас в России учится около 35 тысяч китайских студентов. Но лидерами по количеству китайских студентов все еще остаются страны типа США (там их порядка 250 тысяч), Австралии и Великобритании.
Сейчас в России учится около 35 тысяч китайских студентов. Но лидерами по количеству китайских студентов все еще остаются страны типа США (там их порядка 250 тысяч), Австралии и Великобритании.
— Кто больше инициирует контакты: Россия или Китай? Можно ли сказать, что кто-то из сторон больше заинтересован в этом?
— Скорее у Китая есть более четкая стратегия — правительство страны знает, что оно хочет получить от образовательного сотрудничества и как именно. Например, в Китае востребованы технические специальности, и от этого исходит инициатива о соответствующем профиле создаваемых совместных программ. Все совместные вузы основаны исходя из этих потребностей — там учатся в основном китайцы (нередко на английском языке) и поездки на стажировку в Россию им чаще всего не требуются. У нас в России тоже есть потребность в специалистах по работе с Китаем. Причем требуются профессионалы не по иностранному языку, а эксперты в бизнесе, энергетике, финансах. Но про существование специальных совместных программ, которые закрывали бы этот запрос, я не знаю.
— Как китайская образовательная система стимулирует приток иностранных студентов в страну? Может, существуют какие-то стипендии?
— Да, они есть, и в основном студенты стараются ехать учиться по стипендии. Вариантов немало: финансовую поддержку можно получить от Института Конфуция, от принимающего университета, от правительства. Некоторые полностью покрывают обучение в Китае, некоторые частично, но это в любом случае помогает налаживать контакты. Так как студенты знакомятся с культурой, поднимают уровень языка, заводят связи связи и зачастую продолжают сотрудничество и после обучения.
По статистике Министерства образования КНР за 2018 год, почти 13% иностранных студентов в Китае обучались за счет стипендий.
Одна из выпускниц нашей магистерской программы «Бизнес и политика в современной Азии» помогает студентам искать такие стипендии. Она запустила проект «ChinaVersity», в котором команда кураторов-востоковедов с опытом учебы и жизни в Китае сопровождает желающих поступить в китайские вузы.
— А как российские университеты поддерживают контакты России и Китая в сфере образования?
— Один из хороших примеров — программа международной мобильности Высшей школы экономики. Благодаря ней студенты могут провести семестр (а иногда даже год) в иностранных университетах, в Китае в том числе. Мы сотрудничаем с Шанхайским финансово-экономическим университетом, Пекинским педагогическим университетом, Колледжем бизнеса Городского Университета Гонконга, Сиань Цзяотун-Ливерпульским университетом. Насколько помню, в осеннем семестре 2023 года 10 студентов с разных факультетов и программ поехали в эти вузы.
#образование и наука
© ADDA Design Co.
Arina Kondratieva
DariaProniakina
Daria Orekhova
Anna Yuschenko
Arina Kondratieva
DariaProniakina
Daria Orekhova
Anna Yuschenko
